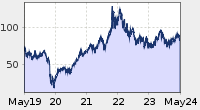Послушав песню Е. Бачурина в исполнении
Ф. Борковского, вспомнил как мы увлекались Бачурином и решил поискать о нем информацию. Вот напал на его самого интервью. Почитайте, интересно!
___________________________
Евгений Бачурин родился 25 мая 1934
года в Ленинграде. Долгое время с родителями жил в Сочи. Окончил
полиграфический институт. Работал художником в периодической печати.
Член Союза художников СССР. Выставлялся в ФРГ, США, Франции, Японии,
Швеции и др. Автор многих пластинок. Поэт и композитор, исполнитель под
гитару собственных песен. Самая известная песня: "Дерева". Печатался в
журналах "Юность", "Знамя", "Наша улица", "Сельская молодежь" и др.
Большая книга, вобравшая практически все произведения Евгения Бачурина,
"Я ваша тень", выпущена Издательством "Книжный сад" в 1999 году. Книга
"Дерева, вы мои дерева..." вышла в этом году в издательстве
"РИПОЛ-КЛАССИК".
ЕВГЕНИЙ БАЧУРИН: "БЫЛ ТАКОЙ СЕРЕБРИСТЫЙ ДЕНЬ"
- Мы все дальше и дальше уходим от 60-х годов, от
того времени, когда зарождалось понятие бардовской песни. Все
стремительнее удаляется наше детство, первые ослепительные лучи
узнавания жизни.
- Вот когда-то было время, когда я был самым
младшим... Самым младшим я был в классе. Потому что я пошел в школу в
семь лет отроду. И в семь лет, да, еще не было восьми, и меня определили
во второй класс, поскольку я умел... меня научили читать и писать...
Писал я, конечно, хуже, но читал я уже хорошо. И поэтому в городе Сочи,
в сорок первом году, в год войны, я пошел в школу. И меня определили
во второй класс. Первый сюжет моей биографии не очень симпатичный, с
одной стороны, но, с другой стороны, умиляющий несколько. Особенно дам,
пожилых, у которых давно прошло их материнство, и они давно стали
матронами, бабушками. Они всегда очень любят детские воспоминания. Вот у
меня детское воспоминание одно. Мама мне купила большой портфель.
Очень такой здоровый, как сейчас помню. Мне туда положили книги,
тетради, все... У меня были вот такие щеки, розовые, я был безумно
кудрявый, не то, что сейчас видите... И вот я с этим портфелем
направился во второй класс “Б”, по-моему. И была Лидия Никитична, как
сейчас помню... (Бачурин тут напевает: “Учительница первая моя...”)
Короче говоря, когда я пришел в этот класс, значит, сидели дети... Все
встали, когда вошла учительница. Я вижу - все встают, и я встал. Я не
знал никаких правил, ничего не знал. А мама мне положила еще туда...
завернула большой бутерброд, с сыром или с колбасой, с маслом, с чем-то
таким вкусным. А я любил, видимо, в те поры поесть. То, что сейчас не
люблю. И вот, короче говоря, меня посадили... Да, я пришел то ли чуть
припоздавший, мне сказали... Лидия Никитична говорит: “Женечка, вот
садись на первую парту”. Я сел на первую парту... Прямо перед ней.
Сижу, и внимательно ей в рот смотрю, что она говорит. Все дети сидят
тоже, тихие, спокойные. Идет урок. Ну, вот, как-то я проголодался
несколько. В середине урока. И думаю, что же делать-то в такой
ситуации? Как сейчас, помню свое состояние. Залез спокойно в портфель,
глядя так же на учительницу верными глазами, слушаю, что она говорит, я
достаю большой сверток, и спокойно его разворачиваю на парте, достаю
оттуда огромный бутерброд, и начинаю его поглощать. Сразу началось
хихиканье, смех. И тут, видимо она, Лидия Никитична, была
предупреждена, сказала: “Женечка, на уроках кушать нельзя”. Я весь
вспыхнул, как маков цвет. И я быстро все это запихнул назад, и был
посрамлен публично. Это было мое первое посрамление. Я первый раз попал
не в ногу, не в такт. Естественно, это была случайность. Но вообще, в
какой-то степени, это определило мою жизнь. Все, что потом пошло
дальше, приблизительно выглядело так же. Не в такт, не в шаг, и
невпопад. Я очень хорошо помню, как началась война. Дело в том, что
когда Молотов произнес речь... А для меня тогда все были одинаковые
Молотовы, и Серповы... Я ничего в этом не понимал, но я знал, что, если
товарищ Сталин, дорогой, который, конечно, наш отец родной, этому нас
воспитывали с самого начала, не знаю, сколь мне это было близко и
дорого, но помню, что я хорошо знал это имя. А играли все дети в это
время, перед войной, только в войну. Мне прицепили какие-то штучки
такие тут. Медаль какую-то повесил... Был такой там Юра э-э...
Пустовалов. Как сейчас помню, у него был штаб, и мы, значит, мелюзга
вот эта, малыши совсем, а он уже был так вроде в каком-то
третьем-четвертом классе, и он командовал парадом. И все мы, значит,
кто-то был лейтенантом, кто-то сержантом и так далее. Вот занимали
какие-то кусты, посты, вот, что-то такое. Там, на Батарейке мы жили, эта
Батарейка над Сочи стоит гордо, и я жил в очень оригинальном и
странном доме, бывшем своего рода таком коттедже, или нельзя его
назвать коттеджем, скорее это был особняк, похожий на замок. Кому он
принадлежал - не знаю, но он был очень древний, и вот мы занимали одну
комнату... Он был коммунальный. У нас была комната, о пяти углах. Пять
углов было в этой комнате. Эту комнату я и воспел, и огромный балкон.
“Шахматы на балконе”. Вот это древнее воспоминание. Началась война. Мы
играли в войну перед этим. Играли в войну потому, что чувствовали, что
должна быть война, либо говорили взрослые об этом часто. Мой дядька
приезжал. А он был в то время старшим лейтенантом, не мало не много,
НКВД. И его уже тогда почитали. Я не могу сказать о своем родственнике
дурно, потому что я его слишком хорошо знал. В моей песне участвует в
качестве дяди, а там брат... Военный летчик... Но я совсем это
по-другому описал. В конце концов, это все-таки имеет отношение к
поэзии. Я имею право на вымысел. Мы были готовы к войне. “Если завтра
война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов...”. Это пели
дружным хором, но пели не мы, а пели по радио, пели взрослые люди, а мы
были маленькими. И нас маленьких было легко обмануть. Ясли, что.
Детский сад. Вот я пошел в школу. И вот, как я пошел в школу, и так и
началась война. Это был 41-й год. И как сейчас помню, в первые дни
войны я увидел первое зрелище, которое меня несколько поразило, все
было очень тревожно, очень насыщено, но, поскольку шла война, уже
началась война, а мы о ней мечтали, мы грезили войной, возможно,
гитлерюгенд, которых подготавливал Адольф, они были тоже готовы, они все
были готовы... На подъеме... Мы все были на подъеме. Но мы еще были
слишком малы, и мы понимали, что совершилось нечто невероятное. Я
помню, что лестница, которая вела на третий этаж в доме, в котором я
жил, а он был из трех этажей, да еще с винтовой лестницей, я бегал
почему-то вверх-вниз, возбужденный, а родители мои разговаривали очень
взволнованно, бегали по комнате. Что тревожное, что-то нависло, что-то
было необычайное в этом... И бабушка моя там мелькала между ними.
Бабушка была моя любимая, Евдокия Ивановна, по материнской линии,
которую я буду помнить, видимо, до конца дней своих, ибо она меня и
воспитала, в общем, как-то следила за мной. Короче говоря, так все это
произошло. Я бегал по этой лестнице, какой-то еще пацан бегал со мной,
потом помчались на эту Батарейку, и там сделали какую-то засаду,
какие-то начались у нас как бы выстрелы... Игра в войну продолжалась. И
настоящая война началась. В это время раздался страшный грохот
несущихся самолетов. И мы увидели, как над нами, между листьями дубов,
дубов было тогда на Батарейке много, сейчас их всех вырубили, потому что
там масса особняков появилась, а тогда просто были дубы, я в школу
ходил по тропинке вниз с этой горы, туда, к Советской улице. А тут
вдруг раздался грохот. Мы выскочили на более или менее такое лысое
пространство на этой горке, и увидели, как летят темного цвета, такие
мощные самолеты, на которых стояли свастики. Они пролетели над нами. Их
было несколько штук. Это первое, что я увидел. Это был чуть ли не
первый-второй день войны. Это воспоминание во мне останется. Они
пролетели - просто, спокойно, рядом. Они пролетели - и все. И скрылись.
Сочи вообще не бомбили, практически. Уничтожили вокзал и адлерский
аэропорт. Все. Все остальное было - тишина, покой. Никого не трогали,
ничего. Но следили. Пролетали мессера, как сейчас помню, когда дядька
мой приехал, пролетали мессершмитты над уступами... Сочи же расположен
уступами такими тоже, как все приморские города. И они как бы
контролировали. Люди ходили, в общем-то, мы даже купаться бегали. Во
время воздушной тревоги мы отсиживались в подземных коммуникациях,
сидели на реечных скамеечках, продолжался урок, а в это время там выло
что-то, грохота особого не было, потому что, практически, Сочи не
бомбили, повторяю, где-то там кинут пару бомб, если увидят какой-то
транспорт, проходящий мимо, там мол иногда бомбили, наш порт, порт
все-таки был. Ну вот, мы под землей отсиживались, и возвращались назад в
свою барачного типа школу, состоящую из пяти бараков маленьких.
Садились за эти парты, на которых была вырезана масса имен каких-то
непонятных, и продолжали свою учебу. Так началась моя жизнь. Мой дядя,
которого звали Павлом Афанасьевичем, мать моя - Серафима Афанасьевна...
Булгаковское отчество... Редкое, да. И редкое имя - Серафима. Сима она
была. Он приехал из города Армавира, уже будучи в другом чине,
капитана или больше, будучи почти хозяином города Армавира. И он
последним уходил из Армавира, когда входили немцы. Я хочу рассказать о
своем родственнике. И не напрасно. Дело не в том, у нас такое
представление об НКВД, и представление, так сказать, в общем-то,
правильное, и оно воспитано в нас не только какими-то авторитетами
бывшими, не только Солженицыным, прочее, это продолжается, это
естественно... Я не, как говорится, я хочу сказать в свое оправдание, я
совсем не хочу, чтобы “кровопивцам” ставили памятники. Нет, я против
этого. Но этот человек честно служил. Он прошел Гражданскую войну в свое
время. Вы понимаете, да? Начиналась жизнь сначала, как говорится. Они
были молоды. Все было так. И, короче говоря, он последним уходил из
Армавира. И интересный, я бы назвал это подвигом, сюжет, который я
сейчас расскажу... Который я хочу вписать. Я уже его вписал, кстати, в
свои тетради. Но, может быть, вы перехватите, и напишите сами... Но
ведь это все равно мое. Какое это имеет значение, а почему? Мы напишем
две фамилии: Кувалдин, Бачурин. Неплохо звучит! Вот. Я рассказываю о
своем родственнике - Павле Афанасьевиче Бачурине, который в те поры был
начальником НКВД в городе Армавире. Ну - начальник... Тогда
начальниками назывались... Или, бог знает, как, не знаю. Но, в общем,
был знатной персоной. Уже такой персоной определенной. Короче, когда
немцы входили в Армавир, он его последним оставил. Поскольку, значит,
нужно было все, что было в архивах НКВД и так далее, вот это вот
тайное... тайная... Тайная полиция, которая существовала в любом
городе... Август, как сейчас помню, сорок второго года. Сдача
Армавира... Ну, конечно... Так у них же был четкий план. Это же немцы!
Это железные люди. У них все было жестко рассчитано. Ну вот, когда была
сдача Армавира, он должен был выходить последним. Войска покинули,
все, уже отбой. Перебили всех, кого, так сказать, можно было перебить.
Немцы шли, все шло, перли танки, и шли вот эти мотоциклы знаменитые, на
которых сидели все эти... Они захватывали быстро все трассы, идущие к
Армавиру, и еще дальше, к Краснодару и так далее. Шел захват
Краснодарского края, верхней части Кавказа, непосредственно... И я
помню этот рассказ, когда мы сидели у нас, уже в саду, у нас еще был
небольшой сад. Дело не в том, в ту комнату, которую я воспел, этот
балкон, это мы жили там с бабушкой, а мать с отчимом, и еще там... жили
в другом месте. Я просто вынужден отвлечься, чтобы было понятно, что мы
сидим вот в этой даче, небольшой, которая была тоже на Батарейке, но
несколько ниже. Там были деревья, сад был... Батарейка. Название такое
интересное... Так называлась эта гора. А “Батарейка”, - видимо, потому,
что там были расположены батареи в свое время. Оказывается, батареи
были еще при Раевском, при знаменитом нашем Бестужеве-Марлинском...
Когда шло завоевание... Там же пушка стоит... Возле библиотеки.
Знаменитая пушка. И там стоит - восемьсот семьдесят четвертый, или
нет... Раньше! Не помню точно год, но вся вот эта Ермоловская
ситуация... Ермолов же завоевывал. Бестужев-Марлинский, кстати, первый
знаменитый прозаик, настоящий первый прозаик, до Лермонтова еще. Они,
кстати, дружили. Он погиб в перестрелке, он был тяжело ранен... вот
там, где коса выходит от Адлера, где сейчас аэродром. Это я знаю точно.
Потому что это рассказывал отчим. Вот, мы жили в этой дачке в это
время. Идет война. Я первую помню бомбежку Сочи. Недалеко от нас
разорвалась бомба. Я спер у своей мамы, а мне было, значит, в эту пору
лет восемь, а мать все время писала в санатории вот эти огромные копии.
Она зарабатывала великолепно. Она была художницей, окончила Академию
художеств. Копировала наши шедевры. В том числе и знаменитые шедевры
Ефанова невероятной сложности. А платили за это хорошо. Заказывали
санатории, дома отдыха... Как сейчас помню санаторий “Красный штурм”.
Одно название чего стоит! “Имени Ворошилова” знаменитый санаторий!
“Наркомтяжпром”! Какие были названия! И так далее, и тому подобное... И
вот, как я рассказываю, происходит такая ситуация - мы живем внизу,
идет война, идет весь этот кошмар, все время идут тревожные вещи, все
время - то, се, мать меня никуда не выпускает, только в сад. А над нами
кусок Батарейки торчит, и водохранилище рядом было. И вот я однажды,
видя, как маманя моя, а я рисовал уже ничего... Я рисовать до школы
начал. Благодаря маме. Ну, я просто видел, когда человек рядом
рисует... Опять сюжет. Очередной сюжет, который я хотел записать... Вы у
меня забираете все. Это грех вы берете на душу. Так вот, что
произошло. В городе Магнитогорске... Еще был родной отец мой, он погиб,
практически погиб, потому что вернулся с прифронтовой полосы... Он был
больной человек, и когда он рвался на фронт, его допустили только к
раскрашиванию танков. Маскировку делали. И он все равно настоял в
военкомате, чтобы его пропустили... Он вернулся через несколько дней. У
него была аневризма аорты. И через три-четыре дня его не стало. Он
познакомился с моей матерью в Академии художеств в Ленинграде. И потом,
будучи художником декоратором, он вынужден был ездить по городам,
заключать контракты... Из Питера мы попали в Сочи позже гораздо. А вот
перед этим мы попали однажды в Магнитогорск. И в Магнитогорске как раз,
когда мы туда приехали... Я вспоминаю... Это отрывочно, очень зыбко,
просто, вот, куски... Я свои сочинения, которые я сейчас пытаюсь
записать, назову - “Вспышки”. Так я придумал - “Вспышки”. Вот как вот
это вспыхнуло сейчас (я фотографировал Бачурина фотоаппаратом со вспышкой)...
Вспыхнуло, прошло, вспыхнуло, прошло... Я вспоминаю, что была какая-то
небольшая комната, и моя маманя взяла заказ. И не на что-нибудь в
Магнитогорске, когда отец делал какой-то там театр, делал декорации, ей
предложили заказ - сделать копию “Боярыни Морозовой”. Правда, недурно,
а? Вдумайтесь. Я помню, что во всю стену, был растянут этот холст
гигантский... Она была очень одаренным человеком, в смысле, вот, как
копиист, она делала копии совершенно великолепные, и, причем, легко!
Глаз был просто алмаз. Легко работала. И вот первый мой сюжет, и вот
первые мои, так сказать... Да, кстати, и первый стих я там написал...
Он записан на обороте телеграммы. Сейчас я вам его скажу. Это
любопытная деталь. Вот, значит, был первый мой опус рисовальный...
- Слушая вас, я понимаю, сколь много у вас было
творческих периодов. Ленинград прячется за Сочи, Москва - за
Петербург... Так и надо жить миннезингеру, то есть, певцу любви, если
по-немецки (Minnesinger), пииту, малеру, то есть, художнику, если
говорить по-русски... Вот и случился магнитогорский период в творчестве
Бачурина?
- Не говорите! Мы жили там всего два месяца. Не
больше. Но суть не в этом. А суть в том, что я в первый раз там что-то
нарисовал, и что-то сочинил в стихах. А вот рисование было такое. Мать
писала эту копию великого нашего мастера Сурикова Василия Ивановича, а я
не выдержал, я болел... Я был больной. Я не знаю, чем-то я там
заболел... Грипп там, что-то было... Я ее умолял, чтобы она мне дала
кусочек чего-то, чтобы я... Я тоже хочу порисовать. И она мне дала
какую-то картонку. И я вот это сюжет запомнил. Я стал рисовать
“Морозову”, глядя на работу мамы. Она по клеткам все это делала, как
положено копиисту. Она не обращала на меня внимания. Тогда я сзади
пристроился со своей картонкой и начал писать. И стал сперва рисовать, а
потом взял какую-то черную краску, потому что меня поразил черный цвет
боярыни. Она же вся черная! Как ворона. И я начинаю писать, малюю
какие-то фигурки, пытаюсь что-то изобразить. Но в это время мне, там,
четыре с половиной года. Смешно, что я там делаю. Но что-то делаю!
Что-то там изображаю. И - это из рассказа уже матери - она говорит. И
тогда меня удивила одна вещь. Мама не сохранила этой маленькой
картинки. Я тоже в длину расположил композицию, все так, как надо, но в
центре я нарисовал большую боярыню Морозову, остальные были
значительно меньше по размеру и по всему. Но самое грандиозное было
другое, что я ее написал вот этой черной краской, еще не успев там
помазать другими, какие у меня были краски, у меня было немного красок,
она мне мало чего дала. Я написал боярыню, у которой рука с
двоеперстием, помните, да? Это Никоновский раскол... Боярыня была
нормальная, но рука была огромной длины, и упиралась в самый край, и
была черной краской написана, уходящей в небо. И вот это интересно.
Значит, сознание ребенка... Вот видя эту репродукцию, что делает мать, я
понял, что это есть самое главное, контрапункт, то, на чем все сидит. И
первый стих, который я написал, был записан, к сожалению, ничего не
сохранилось, на обороте телеграммы, которая пришла... Я был достаточно
молчаливым, в отличие от сегодняшнего меня, и молча сидел долго, и был
толстый, в отличие оттого, что сейчас я невероятно стал худым. А в те
поры, значит, был хорошей толщины. Видимо, меня как-то откармливали,
поили и кормили, любили... Ребенок единственный был в семье. И я, в
основном, сосредоточенно молчал, реагировал очень плохо на все. Но
иногда начинал говорить. И все прислушивались, и, как они говорили,
говорил странные вещи. Ну, это всех детей делают с такого возраста,
думают, что это какой-то вундеркинд. Но вот на этой телеграмме были
записаны стихи, которые были импровизацией. Видимо, какой-то разговор
услышал, или что, но уже тогда я любил великого вождя, товарища
Сталина. Видимо, любовь моя была столь безмерна, что даже в четыре с
половиной года, я написал стихи, посвященные только великому вождю.
Именно ему. Первый раз в жизни я сижу... Учтите, Юрий Александрович,
первый раз в жизни я читаю их публично. Если вы будете со мной плохо
обращаться, я вам этого никогда не прощу. Это стихи уникальные.
Эксклюзив. Стихи были такие. Мне когда их прочла мать, уже это
значительно позже, я обалдел.
Сталин приехал в Магнитогорск.
Чулки-валенки снимает,
И на туфли надевает.
Прилетел тут воробей,
Выглянь, солнышко, скорей,
А то Сталин замерзает,
Чулки-валенки снимает!
Вот это было первое мое сочинение в моей жизни. Так
что я был, воистину, верноподданным, уже в четыре с половиной года. Это
мне не помешало потом, конечно, стать и неверноподданным, и... Ушла
жизнь. Мне самому крайне интересен сам момент вхождения в литературу...
Но, в сущности, не было у меня определенного момента вхождения в нее. Я
и не пытался в нее входить. И даже и не думал об этом. Я прекрасно
понимал, что есть настоящие поэты, есть настоящие литераторы, настоящие
писатели.
- Мне кажется, что то время было охвачено некой
лихорадкой. Была поэтическая лихорадка, и была бардовская лихорадка. В
СССР была подпольная живопись, подпольная поэзия, подпольная
литература... То есть то, что сейчас, условно говоря, называется
андерграундом. Вы себя считаете представителем советского андерграунда?
- Я вам хочу сказать, что любая лихорадка имеет свои
варианты осложнений, как любая болезнь. В данном случае я не отвечаю
прямо вам на вопрос, считаю ли я себя андерграундом. В какой-то
степени, безусловно, да, потому что я не выходил наружу. Я выходил
наружу только в качестве художника. И то в качестве
художника-иллюстратора. В 60-е годы я был уже несколько известен, как
иллюстратор в разных довольно модных журналах. Это, прежде всего,
“Юность”, “Смена” и т. д. У меня уже был свой стиль. Но я фигурировал
как художник-график, как иллюстратор. Это была совсем другая моя линия.
Я еще не ожидал, что там произойдет в дальнейшем. И мне еще и не
грезилось... мало ли, что я пел песенки: “На диване, на диване мы лежим
художники...” Или знаменитую песню Высоцкого: “А тот, кто раньше с нею
был, сказал мне, чтоб я уходил...” Я знал уже песни Булата Окуджавы...
Но я не придавал этому никакого серьезного значения. Выбор профессии
произошел - я был художником. Потом я полностью отрекся от иллюстраций.
Что касается того вопроса, который вы задаете. Это вопрос очень
серьезный по той простой причине, что да - лихорадка начала трясти всех.
Но у каждого была, так сказать, своя история болезни. Своя клиника.
Обратите внимание, лучшим образом эта клиника лихорадки вышла у Булата
Окуджавы, у Аксенова, Ахмадулиной, ну и Вознесенского и т. д. Это вот
то, что теперь представляет не андерграунд... а шестидесятники, так
называемые. А ведь они, в свое время, тоже играли в андерграунд. Где-то
их били... У них произошел групповой прорыв в официоз... И благодарным
словом вспомню тут Валентина Петровича Катаева, нашего блестящего
стилиста, который в то время пробил новый журнал - “Юность” - который,
собственно, и сформировал это поколение шестидесятников. И я там
работал, как художник. Даже делал обложки. Из тех знаменитостей... они
тогда уже были знаменитостями: и Рождественский, и Евтушенко, и другие,
и Ахмадулина - я не был ни с кем из них знаком. Я познакомился с ними
значительно позже, когда вырвались наружу мои песни. То есть, скажем,
ближе к новому времени, конечно... А тогда я был просто
художником-иллюстратором. Но уже имеющим имя в прессе. Не более того.
Гитару я первый раз взял очень поздно. Это в Академии художеств. Меня
научил такой Валера Костылев, очень забавный человек, который играл
такие джазовые мелодии, как... ну, очень самодеятельно, и я балдел,
глядя на его руки, как он все это делает, и он играл знаменитую такую
мелодию, это был какой-то 56-й или 57-й год (Бачурин напевает):
“Луна-а, твой нежный свет в тумане...” Я говорю: “Покажи мне эти
аккорды. Я так хочу спеть...” И я вот эти четыре аккорда выучил в
первый раз. Он посмотрел на мои руки, и сказал: “Слушай, ты сможешь
играть... Чего тебе стоит!” И взял, стал я пальцами, там, шуровать,
шуровать... И так я начал играть на гитаре. Но я ничего не сочинял до
67-го года. Я пел только чужие песни. Я пел Окуджаву... И я вот четыре
аккорда выучил в первый раз. Он посмотрел на мои руки, и сказал:
“Слушай, ты сможешь играть... Чего тебе стоит!” И взял... Стал я
пальцами, там... Шуровал, шуровал... И так я начал бринькать на этой
гитаре. Это было впервые. Но я ничего не сочинял до 67-го года. Я пел
только чужие песни. Я пел Окуджаву... А в Москву окончательно переехал,
ну, когда... Я приехал сюда учиться в 1951 году. И не попал туда, куда я
хотел попасть, и полгода я проболтался в другом институте, а потом
перебросился все-таки в полиграфический... И кончил полиграфический... А
из полиграфического я же еще сбежал в академию, где я два года с
половиной пробыл, оттуда меня выперли, а потом вернулся в полиграф, и
меня все-таки они взяли на четвертый курс, я окончил... То есть, это
период начала и середины 50-х годов? Это как раз колоссальная волна
пошла свободомыслия. И каждый начал бегать с гитарой! В 59-м году я
только окончил полиграфический институт. А начал приступ этот с 51-го
года... Я начинал штурмовать... Первые стихи, которые были написаны до
всякой мелодии, я же много пел других каких-то авторов, но вот, в
основном, я вам говорил, Булата, прежде всего, и еще я пел народные
песни. Которые мама моя пела, и бабушка. “Сидит Ваня на диване”, или,
там, еще были песни, которые дядька мой пел замечательно (Бучурин напевает):
“Ходит Ваня по деревне с медной бляхой на пузе. Цалим-бом-бом,
цалим-бом-бом...” Фольклорного плана. Я стихи-то сочинял рано. Как
видите (Бачурин смеется), с четырех с половиной лет. Вот. И во
время войны... В конце концов, получилось так, что стихи я писал уже и
после, и когда в Академии художеств учился, все тоже писал все
какие-то стишки, так сказать, и, как говорится, баловался этим... Но
ничего не было опубликовано... Публично я пел, я вам говорю, “Простите
пехоте”, я пел “Ах, Арбат, мой Арбат...” А свои вещи я впервые написал и
спел публично в 1967 году. Первое мое сочинение было “Огюст, Орест и
Оноре сидели как-то в кабаре...” Поскольку я был художником, в этой
ментальности существовал... Вот некоторые песни я помню, как написал...
“Шахматы на балконе”, например, при каких обстоятельствах я написал?
Ну, вот я проснулся... На Кастанаевской улице, это 80-й год, или
79-й... Метро “Пионерская”... Вот. Это уже покойная моя, бывшая жена,
Светлана которая, ушла отсюда, уже став монахиней... Она была певицей в
церкви. Я там как-то проснулся, чего там чай готовил, что-то я там
пошел, квартирные дела, квартирные перемещения... И я вдруг: “В шахматы
играют на балконе...” - эта строчка абсолютно случайно долбанула
меня... Долбанула меня по голове, не могу от нее отделаться! Я потом
взял свою тетрадь, где я все записывал, и стал писать, и довольно
быстро я написал. Но никакой мелодии у меня не было. Я просто написал:
В шахматы играют на балконе
В довоенной южной стороне...
Мне это очень понравилось, как это вдруг какой-то
запах пошел, как ветерок какой-то повеял. Ну, вот я все это дело
написал в течение, буквально, часа. С перечеркиванием, конечно. А потом
уже... Мелодия довольно быстро пришла... С мелодиями я быстро
справлялся. Часто было наоборот. Была одна строка, полторы, две, а
мелодия уже была. Иногда я шел от мелодии. “Ты крупица, я крупица. Нас с
тобою двое...” Правда, это тоже была какая-то строчка. Первая. А я
некоторые песни свои, пожалуй, из лучших просто напевал, еще не имея
слов. А имея просто буквы. Как бы сказать, слога... Я почти что пел на
рыбу. А потом понимал, что эта мелодия стоит того, чтобы и пошел к нему
текст. Но не всегда это совпадало. Хотя здесь, с “Шахматами на
балконе” совпало:
В шахматы играют на балконе
В довоенной южной стороне
Смуглый мальчик в новенькой матроске
И курсант при кожаном ремне.
У перил, где листья винограда,
Мать смеется и отец грустит.
Брат приехал - он военный летчик.
За балконом бабочка парит.
Мы сидим за столиком прозрачным,
А над нами летняя пора,
На доске расставлены фигуры -
В шахматы последняя игра.
Мир затих, не двигается время,
Замер тополь, голову склоня,
Тонет солнце в безмятежном море,
До войны еще четыре дня...
Прошлое уходит без оглядки,
Но остался голос с высоты:
- Спи, мой мальчик,
спи, мой, сладко-сладко,
Ведь в живых остался только ты.
- Вот “Крупица...”... У вас был период, мне кажется,
такой русский период. Вот вы не напрасно вспомнили, что народные песни
были в вашей биографии...
- Но там не то, что народные, они близки к
фольклору, потому что я тянулся к этому. Потому что в моей семье,
преобладали какие-то песни, те, что пели мои дядья или маманя, они все
были очень музыкальные, достаточно музыкальные. И всегда пели какие-то
украинские песни... Вот эта была, помню, “Там Васю косит, та
сбирает...”, “Как за гаем-гаем, зелененьким...” Это же Краснодарский
край, Кубань, да, а Кубань она была вся пропитана этими песнями. А те
еще привезли... Мать-то моя родом из Челябинска. А бабушка из-под
Барнаула. Оттуда, из Сибири, вот, Евдокия Ивановна-то... “Платок” я
просто прокричал. “Возьми платок, возьми платок...” В Доме актера у
меня концерт хороший получился. Хороших концертов было мало. Жалко.
По-моему вы были на концерте в Третьяковке? Вас не было, по-моему. Вот
там был хороший концерт. Где повесили пятнадцать моих картин.
Честолюбивые планы и мечты переполняли душу провинциала. С невероятной
жадностью я вдыхал сырой воздух великого города. Я тогда уже бубнил
стихи Маяковского, Сельвинского, Заболоцкого и Хлебникова. И вот
однажды я пришел в знаменитый дом на Масловке, где жили художники, к
великому футуристу Владимиру Евграфовичу Татлину. Старик принял меня
радостно. Маленькая двухкомнатная квартира старого холостяка. На стенах
холсты, которые сейчас находятся в лучших музеях мира, - обнаженная
девочка, какой-то прозрачный пейзаж, натюрморт с мясом и ножом. Честно
говоря, меня мало тогда взволновали эти картины, написанные плазмовыми
мазками, странные по рисунку и лишенные внешнего эффекта. Я в то время
ориентировался на классику - Сурикова, Левитана, Врубеля, в крайнем
случае, Петрова-Водкина. Вкусы мои были примитивны и старомодны, а
требования на вступительных экзаменах строги и ортодоксальны. Татлин
показал мне модель своего знаменитого “Летатлина”, сопровождая это
стихом своего друга поэта Хлебникова. Я сидел как завороженный. На меня
обрушился поток коротких остроумных рассказов. Передо мной сидел
человек из мезозоя, странной неведомой эпохи. Когда я стал показывать
Татлину свои блокноты с набросками, он сокрушенно покачал головой: “Мы
открывали новое, мы противопоставляли натурализму и затхлому реализму
Репина... У нас были Малевич, Кандинский, Филонов, а у вас Герасимовы,
Ефанов, Налбандян. Очень печально”. На стене его маленькой второй
комнаты висели три бандуры, сделанные им собственноручно. Сняв одну из
них, он запел какую-то гуцульскую песню... Из поэтов был в то время
близок мне по мироощущению, по стилю был Эдик Лимонов. Но это было
позже... Я с ним познакомился в Коктебеле на рубеже 60-70-х годов...
Да, в те времена. Какая-то судьба странная у человека. Ну, поскольку он
- нарцисс, ему все прощается. Он замечательные стихи читал. Могу вам
привести пример. Одно из первых стихотворений я увидел на столе у моего
друга всемирно известного художника Ильи Кабакова. Вот там валялось
три листочка. Я взял эти листочки, посмотрел. И обалдел. Я говорю:
“Илья, это что такое?” А он пошел там жарить какие-то котлеты и
говорит: “Что, нравится? Да, ты знаешь, это интересно. Это из Харькова
один парень вот тут приехал, и фамилия смешная - Лимонов”. Я говорю:
“Ну и фамилия, мама рОдная!” И прочел я тогда эти три стихотворения. А
уж, когда я с ним познакомился, я читал очень хорошо его стихи. Я их
распространял по все стране. Думаю, он до сих пор это знает и помнит.
Например, при встрече в Париже говорил это... И всегда, и правильно,
принимал меня за культуртрегера, за разносчика, за бациллоносителя...
Лимононосителем я был. Именно так, когда я восхищаюсь и когда я не могу
молчать, я начинаю орать на весь мир... И первое стихотворение было,
можно сказать, уже с привкусом политическим. Хотя смешно, конечно,
звучало. Как он это читал, я могу воспроизвести (Бачурин читает с пафосом, четко отделяя слово от слова):
По улице идет Кропоткин.
Кропоткин шагом дробным
Кропоткин в облака стреляет
Из черно-дымного пистоля.
Кропоткина же любит дама,
Та, километров за пятнадцать.
Она живет в стенах суровых,
С ней - муж, дитя и попугай.
Дитя любимое, смешное.
И попугай - ее противник
И муж - рассеянный мужчина,
В самом себе не до себя.
По улице еще идет Кропоткин,
Но прекратил стрелять в облака,
Он пистолет свой продувает
Из рта горячим направленьем...
Кропоткина же любит дама
И попугай, ее противник,
Он целый день кричит из клетки:
“Кропоткин - пиф! Кропоткин - паф!”
- Блестяще! Я целый каскад его стихов слышал... У
Марии Николаевны Изергиной он читал, в Коктебеле, помню, сидя на
подоконнике. Окно было открыто в сад. Эдик был в шортах, коричневый и
длинноволосый, как Маугли. А я пришел с писателем Владимиром Купченко,
будущим директором дома-музея Максимилиана Волошина. Вы не знали
Изергину?
- Я ее прекрасно знал. Я же написал тут целую
статью. Я там о ней говорю, о Коктебеле, там разные авторы были... У
Лимонова было откровение, тут был выход... Он же замечательные стихи
написал вообще о рождении стиха. Он никогда не боялся никакой пошлости.
Он же делал из слов, черт знает что! Он их специально подводил под
монастырь. Мял их, делал из них как бы клюкву, а получалось грандиозно.
И вот это стихотворение, которое... обратите внимание на первые
строки, как он не боится того, чего не боялся Есенин, когда ходил по
лезвию ножа... Есенин мог сделать совершенно как бы кич, а он остается
на грани! И вот так делал Лимонов. Я вспоминаю его стихотворение:
Добытое трудом,
Конечно, хорошо.
Но, когда блеск, талант
Приятнее всего,
Но, когда блеск, талант,
Замру, не шевелюсь.
Так слово повернул,
Что сам его боюсь.
У слова - будто зуб,
У слова - будто глаз,
И, может быть, рукой
Оно качнет сейчас.
Блеск, талант - это же чудовищно! Это карточки на
пляже. Это, черт знает, что, вообще, понимаете?! Вот в чем красота
поэзии. Вот в чем сила поэзии. Второе стихотворение было такое:
Это день невероятный
Был дождем покрыт.
Кирпичи в садах размокли
Красностенных домов.
В окружении деревьев
Жили в домах люди.
Молодые, старые и дети.
В угол целый день глядела Катя,
Бегать-бегала кричала,
Волосы все растрепала Оля,
Книгу тайную читал,
С чердака глядя украдкой,
Мрачный Федор.
Восхитительно любила
Что-то новое в природе Анна.
Что-то новое в природе,
То ли луч пустого солнца,
То ли вглубь пустого леса,
Или общий вгиб цветка.
Дождь стучал одноритмично.
В зеркало теперь глядела Катя,
Убегая, что-то пела Оля,
Кушал чай с китайской булкой Федор,
В дождь печально выходила Анна.
Я был потрясен. Это уже все Сапгиры, Холины - все
полетело! Я, как услышал это... Это было построено на каком-то
неимоверном чувстве... Он дрался часто с Леней Губановым. Лимонов
приходил с фингалом ко мне. С таким подшибленным глазом... Все, все эти
поэты, все они - чудовища! Они все - монстры, они все - страшные люди! Я
их хорошо знал. Чудовищность заключается в том, что эти люди способны
были, черт знает, на что. Порой - на все, не только там... до
самоубийства не все доходили... и на предательство, и на какую-то там
пакость... Первая моя мастерская была на улице Чаплыгина... Много
собиралось людей у меня. Это было единство по интересам. Мы общались по
причине того, что мы были единомышленники, и в то же самое время мы не
вписывались в тот угол зрения, под которым рассматривала нас эпоха. В
это время в угол зрения попадали Евтушенко, Аксенов, Нагибин... Там был
и поэт Евгений Винокуров, который в свое время... Да... Обсуждалась моя
пластинка. Для того чтобы пластинка вышла, собирался худсовет фирмы
“Мелодия”. В этом синклите находились поэты, редакторы, композиторы...
Они решали судьбу. Либо данный человек, который сам сочиняет стихи и
музыку, вот, вроде меня, бард проходит... Хотя барды ни в коем случае
не допускались. Только в редчайших случаях. Только, к примеру, Новелла
Матвеева была опубликована... Еще был Булат опубликован. И две
маленькие пластиночки Высоцкого. Тогда вот выставлялось это напоказ, и
решалась судьба этих людей. А в основном, решались судьбы таких уже
великих людей... Мою первую пластинку приняли спокойно. Хотя были
вопросы. Я не участвовал и не был на этом совете. Моя первая пластинка,
как сказала мне моя редакторша, прошла только потому, что на
обороте... с оборотной стороны стали прослушивать, пел ансамбль. И он
начинал:
Ты ходи, волна, гуляй...
Они пели “Беседку”. Это было ансамблевое, хорошо
оформленное и хорошо аранжированное исполнение. И за всем этим красивым
пением все это проехало. А потом перевернули, показали меня. Там я пел
лирические песни. Там была песня, которая начиналась: “Если б дали мне в
златой короне власть...” Она вызвала сразу споры. Но она все равно
прошла. Правда, меня заставили заменить слово “власть” на слово
“страсть”. Замечательная деталь! Правда, хорошая? Короче говоря,
благодаря этому вышла пластинка. Винокуров вел курс в литинституте и
состоял членом худсовета “Мелодии”. Еще, кажется, он заведовал отделом
поэзии “Нового мира”. И вот, чтобы закончить о нем, он был на
обсуждении одной из моих пластинок. Какую, не помню. Возможно, “Дерева”
- вторая была, а третья - “Я предлагаю спеть о том”. Редакторша мне
сообщила, что Винокуров поднял обе руки за вас. И там был Винокуров,
располневший, и меня потом познакомили с ним, он сказал: “Я хочу вас
поздравить, вы настоящий поэт!” и т. д. Он сказал, что ему очень
понравились мои стихи, что в них нет никакой пошлости, никакой клюквы, а
вот есть что-то достойное, настоящее. Явление бардовской песни в СССР
довольно-таки простое. Первая колонна бардов... Так назовем. Это была,
конечно, не пятая колонна, а первая колонна, что было замечательно... И
она состояла из сочинителей стихов и музыки, и не имело значения, как
они играли на гитарах, и насколько они были композиторами, это тоже не
имело значения, хотя некоторые из них были даже композиторами, например,
Булат Окуджава, который, все-таки, замечательные мелодии придумывал...
Я знал Алексея Охрименко. Выглядел Охрименко замечательно: с золотыми
зубами. Частично, видимо, зубы повыбивали в то время. Наверно, он сам
сидел. Человек он был, на мой взгляд, чрезвычайно симпатичный. Блатные
песни стали неотъемлемой частью советского фольклора. Один из моих
слушателей сказал мне: “Старик, знаешь, в чем прогар твоих песен? Их
нельзя петь под стакан”. Я очень огорчился. Кому не хочется
популярности, тем более занимаясь таким общедоступным жанром. Как-то
раздался телефонный звонок: “Евгений Владимирович, с вами говорит
редактор журнала “К новой жизни” Алексей Охрименко. Не могли бы вы
проиллюстрировать нам пару рассказов. Платим нормально”. Через несколько
дней я принес рисунки, они понравились, и я стал регулярно
сотрудничать с этим журналом. Единственно, что вызывало у меня
удивление - это его название. О какой это новой жизни шла речь.
Впоследствии, уже сблизившись с Алексеем Петровичем, я узнал, что
журнал предназначен для зэков и охранников, что он идет по тюрьмам и
зонам, а иллюстрированные мною рассказы читает вслух группам
заключенных работник МВД. Через много лет, сам уже будучи автором
известных песен, я встретился случайно с Охрименко в метро. Он
обрадовался, увидев меня. Сказал, что слышал мои песни, а потом
добавил: “Я ведь сам к этому причастен впрямую. Вы ведь слышали песни
про Льва Николаевича Толстого, про батальонного разведчика, про Отелло и
Гамлета и тоже. Они уже много лет бродят в самых разных кругах. Только
автор, к сожалению, остался неизвестным. Да я и сам тогда этого не
хотел. Времена были серьезные. А то мне в те поры припаяли бы тоже
кое-что, и сидел бы я сейчас среди тех, кому читают эти рассказики под
моей редакцией и с вашими картинками”. Охрименко умер в конце 90-х уже
очень пожилым человеком. Ему так и не удалось выйти на сцену с гитарой,
чтобы спеть:
Венецианский мавр Отелло
В один шалманчик заходил.
Шекспир узнал про это дело
И водевильчик настрочил...
Я хорошо знал Булата Окуджаву. Он первый меня как
бы толкнул на это дело... Он уже был знаменитостью. Это был 68-69-й
год. И был у меня в мастерской на улице Чаплыгина. А потом он был на
моем дне рождения, и поднял бокал в мою честь. Я его пригласил, он
пришел. Правда, он был один, без Ольги, но это неважно. Мы сидели
несколькиром, и я спел:
Сизый лети голубок...
Он поднял бокал за эту песню, сказав, что это песня
лучшая за последние 20 лет. Уникальная, удивительная песня. И я помню,
что ездили мы с ним Гердту, где Гердт меня записывал. Не знаю, что из
этого получилось, но у Окуджавы был порыв. Как и у других некоторых
потом был. Но из порывов ничего не выходит. Порывы - они рвутся, как
паруса. Нужна работа машины, постоянная работа... Да. На шторме мало что
сделаешь. И Окуджава мне даже, помню, и звонил, и по поводу этой
знаменитой моей песенки: “Бежит ручей и он ничей...” И он мне позвонил и
сказал: “Слушай, как там у тебя рассказано, я помню, мне так
понравилась эта песня, в мастерской было на Чаплыгина... Там у тебя
была такая строчка про хлеб...” Я говорю: “Какой хлеб?” Он говорит:
“Напомни текст...” Я начинаю читать текст:
Бежит ручей и он ничей
у берегов твоих очей...
Напьешься однажды,
погибнешь от жажды.
Течет ручей с твоих плечей,
И нет ни дней и ни ночей.
Лишь облако в небе,
да дырочка в хлебе...
Окуджава тут восклицает: “А, черт возьми! Вот это
замечательно - “дырочка в хлебе”!” А потом мы встречались неоднократно,
но наши пути резко разошлись. Из современных бардов мне очень
нравится, могу сказать совершенно конкретно, четко, поэт и бард, у него
совершенно свое направление Александр О`Шеннон. У него есть
иронические замечания по поводу Вертинского, по поводу рока, у него
всюду присутствует эта ирония... Но делает он это очень классно, на мой
взгляд, с большим вкусом... Он наполовину ирландец... На гитаре он
играет нормально. Нельзя же сказать о Высоцком, что он хорошо играет на
гитаре. Но это не умаляет его достоинств... Высоцкий написал вот эти
два летчика. Я считаю, что обалдеть можно, чтобы такой диалог написать.
Поди такое напиши! Мне в голову такое не придет, я просто из других
материй сделан. Там два летчика летят на верную смерть, когда один
другого там контролирует, они идут навстречу мессерам, разыгрывается
громадная драма в небе... Но как, на каком уровне это сделано! Неужели
вы не знаете этот диалог? Фантастически... Его знаменитая одна из
первых песен “Нинка”... “Она шальная, и ноги разные...” Высоцкий - это
лицо России, лицо русской жизни. Это поразительно, то, что он написал. И
тут уже не имеет никакого отношения ни музыка, ничего, понимаете? Это
другой план вообще... Из серьезных композиторов, скажем, симфонистов,
меня заметил знаменитый, довольно, человек, правда, фамилия у него мало
известная - Александров, - но это был ученик Танеева, - Анатолий
Николаевич. Он много написал - у него были квартеты, он аранжировал
многие фольклорные русские песни, он написал несколько симфоний...
Благодаря нему, меня слушали на бюро композиторов. Он предложил меня в
Союз, но меня не приняли. Нужно было писать заявки, несмотря на
отсутствие музыкального образования. Колмановский предложил... Тогда на
этом бюро триумф целый был. Пять песен я спел. Это был 77-й год. Без
пяти минут одной ногой я был уже в союзе композиторов. Они меня не
приняли без всего. А нужно было писать заявление. Птичкин говорил, был
такой композитор: “Напиши заявление”. Я по лени не написал. И пролетел
мимо. Вот Богословский написал предисловие к новой книге специально,
называется: “Талант от Бога”... Помню, мне было одиннадцать лет, и я
стоял в Сочи, на балконе. В четыре утра мы с бабушкой выскочили на
балкон. Был серый сумрак. Мы были перепуганы... Трассирующие пули
летели со всех сторон. Человек внизу, с первого этажа, в кальсонах, из
пистолета лупил вверх: “Бах-бах-бах...” - и орал: “Победа!”.
- Ну и, хотя вы не любите, давайте скажем, что
сможем, про “Дерева”. Ваша самая известная песня, которую все поют. Как
она родилась? Она тоже в каком-то потоке шла...
- Вас интересует рождение песни? Это произошло чисто
случайно. Никакой музыки у меня не было, ничего не было. Просто
однажды, когда, я в те поры жил в Тушино, вот, и, проезжая мимо... Там
есть такое место, где Покровско-Стрешнево... и там, если ехать из Тушино
к Москве, с левой стороны есть такое озерко, такой пруд, и над ним
стоят деревья. И это было осенью. Начало осени. Был такой серебристый
день, все было очень хорошо... Обратите внимание, оказывается, я могу
рассказать о некоторых песнях... Это был 70-й год. Я вытащил блокнотик и
написал... Я посмотрел на них, и вот, что они уже... листья там летят,
и прочее... И всегда к деревьям испытывал нежность, не знаю почему, но
я вырос с ними, с деревьями, поэтому написал: “Дерева вы мои,
дерева...”. Написал вот эту первую строчку. А дальше я не знал, что -
трава, дрова, там, знаете, раз дрова, два дрова... Можно было любую
рифму подобрать. Но потом, у меня стоит там, в блокнотике, и - терема.
Одна еще как бы рифма появилась. И вот начал катать. И уже в трамвае
началась вот эта вот... Вирус начал работать. То есть, можно сказать,
что песня “Дерева” написана мною в трамвае. Как говорят, все самое
хорошее написано на коленке, на подоконнике. Вот на ходу чего-то,
прибегаешь и... Отделка-то потом уже идет. Когда я начинаю это
рассказывать, то это вызывает смех. Вот чего я больше всего боюсь, это
вызывает смех... Зачем так эту этимологию песни вспоминать?! Как она
зачалась, да как она... Может быть, это не нужно делать, может быть...
Ради “Дерев” (Бачурин берет гитару и начинает петь):
Дерева, вы мои дерева,
Что вам головы гнуть-горевать.
До беды, до поры
Шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема.
Я волнуем и вечно томим
Колыханьем-дыханьем твоим,
Что ни день, то весна,
Что ни ночь, то без сна,
Зелено, зелено, зеленым!
Мне бы броситься в ваши леса,
Убежать от судьбы колеса,
Где внутри ваших крон
Все малиновый звон,
Голоса, голоса, голоса.
Говорят, как под ветром трава,
Не поникнет моя голова,
Я и верить бы рад
В то, о чем говорят,
Да слова, все слова, всё слова.
За резным, за дубовым столом
Помянут нас недобрым вином,
А как станут качать
Да начнут величать
Топором, топором, топором!
Ах вы, рощи мои, дерева,
Не рубили бы вас на дрова.
Не чернели бы пни,
Как прошедшие дни,
Дерева, вы мои дерева!
Беседовал Юрий Кувалдин
"НАША УЛИЦА", № 5-2004